& — Да как вы можете покорить материю? Вы даже климат, закон тяготения не покорили. А есть еще болезни, боль, смерть...
О'Брайен остановил его движением руки.
— Мы покорили материю, потому что мы покорили сознание. Действительность — внутри черепа. Вы это постепенно уясните, Уинстон. Для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация — что угодно. Если бы я пожелал, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Я этого не желаю, потому что этого не желает партия. Вы должны избавиться от представлений девятнадцатого века относительно законов природы. Мы создаем законы природы.
— Как же вы создаете? Вы даже на планете не хозяева. А Евразия, Остазия? Вы их пока не завоевали.
— Не важно. Завоюем, когда нам будет надо. А если не завоюем — какая разница? Мы можем исключить их из нашей жизни. Океания — это весь мир.
— Но мир сам — всего лишь пылинка. А человек мал... беспомощен! Давно ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема.
— Чепуха. Земле столько же лет, сколько нам, она не старше. Как она может быть старше? Вне человеческого сознания ничего не существует.
— Но в земных породах — кости вымерших животных... мамонтов, мастодонтов, огромных рептилий, они жили задолго до того, как стало известно о человеке.
— Вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон? Нет, конечно. Их выдумали биологи девятнадцатого века. До человека не было ничего. После человека, если он кончится, не будет ничего. Нет ничего, кроме человека.
— Кроме нас есть целая вселенная. Посмотрите на звезды! Некоторые — в миллионах световых лет от нас. Они всегда будут недоступны.
— Что такое звезды? — равнодушно возразил О'Брайен. — Огненные крупинки в скольких-то километрах отсюда. Если бы мы захотели, мы бы их достигли или сумели бы их погасить. Земля — центр вселенной. Солнце и звезды обращаются вокруг нас.
Уинстон снова попытался сесть. Но на этот раз ничего не сказал. О'Брайен продолжал, как бы отвечая на его возражение:
— Конечно, для определенных задач это не годится. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, нам удобнее предположить, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды удалены на миллионы и миллионы километров. Но что из этого? Думаете, нам не по силам разработать двойную астрономию? Звезды могут быть далекими или близкими в зависимости от того, что нам нужно. Думаете, наши математики с этим не справятся? Вы забыли о двоемыслии?
& — Подлинная власть, власть, за которую мы должны сражаться день и ночь, — это власть не над предметами, а над людьми. — Он смолк, а потом спросил, как учитель способного ученика: — Уинстон, как человек утверждает свою власть над другими?
Уинстон подумал.
— Заставляя его страдать, — сказал он.
— Совершенно верно. Заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он исполняет вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно. Теперь вам понятно, какой мир мы создаем? Он будет полной противоположностью тем глупым гедонистическим утопиям, которыми тешились прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных, мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным; прогресс в нашем мире будет направлен к росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Все остальные мы истребим. Все. Мы искореняем прежние способы мышления — пережитки дореволюционных времен. Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жен и друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим. Размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет. Наши неврологи уже ищут средства. Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к Старшему Брату. Не будет иного смеха, кроме победного смеха над поверженным врагом. Не будет искусства, литературы, науки. Когда мы станем всесильными, мы обойдемся без науки. Не будет различия между уродливым и прекрасным. Исчезнет любознательность, жизнь не будет искать себе применения. С разнообразием удовольствий мы покончим. Но всегда — запомните, Уинстон, — всегда будет опьянение властью, и чем дальше, тем сильнее, тем острее. Всегда, каждый миг, будет пронзительная радость победы, наслаждение оттого, что наступил на беспомощного врага. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно.
Он умолк, словно ожидая, что ответит Уинстон. Уинстону опять захотелось зарыться в койку. Он ничего не мог сказать. Сердце у него стыло. О'Брайен продолжал:
— И помните, что это — навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали. Все, что вы перенесли с тех пор, как попали к нам в руки, — все это будет продолжаться, только хуже. Никогда не прекратятся шпионство, предательства, аресты, пытки, казни, исчезновения. Это будет мир террора — в такой же степени, как мир торжества. Чем могущественнее будет партия, тем она будет нетерпимее; чем слабее сопротивление, тем суровее деспотизм. Голдстейн и его ереси будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту их будут громить, позорить, высмеивать, оплевывать — а они сохранятся. Эта драма, которую я с вами разыгрывал семь лет, будет разыгрываться снова и снова, и с каждым поколением — все изощреннее. У нас всегда найдется еретик — и будет здесь кричать от боли, сломленный и жалкий, а в конце, спасшись от себя, раскаявшись до глубины души, сам прижмется к нашим ногам. Вот какой мир мы построим, Уинстон. От победы к победе, за триумфом триумф и новый триумф: щекотать, щекотать, щекотать нерв власти. Вижу, вам становится понятно, какой это будет мир. Но в конце концов вы не просто поймете. Вы примете его, будете его приветствовать, станете его частью.
& — Скажите, — попросил Уинстон, — скоро меня расстреляют?
— Может статься, и не скоро, — ответил О'Брайен. — Вы — трудный случай. Но не теряйте надежду. Все рано или поздно излечиваются. А тогда мы вас расстреляем.
& Карандаш в пальцах казался толстым и неуклюжим. Он начал записывать то, что ему приходило в голову. Сперва большими корявыми буквами написал:
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
А под этим почти сразу же:
2 x 2 = 5
Но тут наступила какая-то заминка. Ум его, словно пятясь от чего-то, не желал сосредоточиться. Он знал, что следующая мысль уже готова, но не мог ее вспомнить. А когда вспомнил, случилось это не само собой — он пришел к ней путем рассуждений. Он записал:
БОГ — ЭТО ВЛАСТЬ
Он принял ее. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не изменялось. Океания воюет с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в тех преступлениях, за которые их судили. Он никогда не видел фотографию, опровергавшую их виновность. Она никогда не существовала; он ее выдумал. Он помнил, что помнил факты, говорившие обратное, но это — аберрация памяти, самообман. Как все просто! Только сдайся — все остальное отсюда следует. Это все равно что плыть против течения — сколько ни старайся, оно относит тебя назад, — и вдруг ты решаешь повернуть и плыть по течению, а не бороться с ним. Ничего не изменилось, только твое отношение к этому: чему быть, того не миновать. Он сам не понимал, почему стал бунтовщиком. Все было просто. Кроме...
& Впервые он осознал, что, если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. Ты должен знать, конечно, что он есть, но, покуда он не понадобился, нельзя допускать его до сознания в таком виде, когда его можно назвать.
& — Боли самой по себе иногда недостаточно. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что то непереносимое, немыслимое. Смелость и трусость здесь ни при чем. Если падаешь с высоты, схватиться за веревку — не трусость. Если вынырнул из глубины, вдохнуть воздух — не трусость. Это просто инстинкт, и его нельзя ослушаться. То же самое — с крысами. Для вас они непереносимы. Это та форма давления, которой вы не можете противостоять, даже если бы захотели. Вы сделаете то, что от вас требуют.
& — Я предала тебя, — сказала она без обиняков.
— Я предал тебя, — сказал он.
Она снова взглянула на него с неприязнью.
— Иногда, — сказала она, — тебе угрожают чем-то таким... таким, чего ты не можешь перенести, о чем не можешь даже подумать. И тогда ты говоришь: "Не делайте этого со мной, сделайте с кем нибудь другим, сделайте с таким-то". А потом ты можешь притворяться перед собой, что это была только уловка, что ты сказала это просто так, лишь бы перестали, а на самом деле ты этого не хотела. Неправда. Когда это происходит, желание у тебя именно такое. Ты думаешь, что другого способа спастись нет, ты согласна спастись таким способом. Ты хочешь, чтобы это сделали с другим человеком. И тебе плевать на его мучения. Ты думаешь только о себе.
— Думаешь только о себе, — эхом отозвался он.
— А после ты уже по-другому относишься к тому человеку.
— Да, — сказал он, — относишься по-другому.
& Он остановил взгляд на громадном лице. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка прячется в черных усах. О жестокая, ненужная размолвка! О упрямый, своенравный беглец, оторвавшийся от любящей груди! Две сдобренные джином слезы прокатились по крыльям носа. Но все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. ...
... Он любил Старшего Брата.”


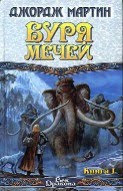

 * Дела всегда могут обстоять и хуже!
* Дела всегда могут обстоять и хуже!